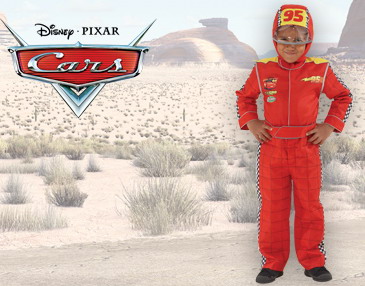В последнее время сигналы, исходящие от власти и близких к ней кругов, говорят о том, что элита всерьез озабочена своим будущим на фоне развивающегося кризиса. Главные вопросы «кто виноват?» и «что делать?» заставляет искать и находить свои, зачастую конспирологические ответы. То там, то здесь заговорили о «заговорах», «переворотах». Судя по всему, в России произошло никем не прогнозируемый форс-мажор, который никем не мог быть просчитан в самых продуманных сценариях реализации проекта «преемник»: политические трансформации начались почти одновременно с финансово-экономическим кризисом. Такое совпадение, очевидно случайное, привело к не менее интересному явлению: элита постепенно начала размежевываться на тех, кто защищает существующее и тех, кто говорит, что надо меняться.Главная задача проекта «преемник», видимо, была в том, чтобы сохранить созданный политический режим, но при этом за счет своеобразного обновления (кадрового, ресурсного, методологического, стилистического), начать реализацию модернизационной стратегии. Резервы накоплены, враги повержены. Казалось бы, никто не мешает, у власти есть и воля, и средства. Кризис перепутал все карты и стал мощнейшим испытанием для избранного сценария.Образовалось опасное смешение. С одной стороны, появились никем не ожидаемые новые вызовы, на которые у режима не было (да и не могло быть) заготовленного ответа. Новые выходы априори «задвигали» прежние планы («план Путина», стратегия-2020) на самые дальние задворки. Максимум, что может сегодня обещать власть (устами Владислава Суркова) – сохранить пусть не букву, а дух стратегии. Позиция вполне прозрачная: выбран некий исторический вектор, который должен быть сохранен. Позиция «охранителей», «консерваторов» - всех тех, кто сегодня говорит о недопустимости каких-либо реформ, либеральных проектов, пресловутой «оттепели».С другой стороны, такая позиция не дает ответа на вопрос «что делать?». Придерживаться «вектора» – это не значит решать проблемы дефицита ликвидности, сокращения рабочих мест, паления доходов, закрытия производств, паралича банковский системы и т.д. Кризис рождает острую потребность в новом Плане. И вся опасность политического момента состоит в том, что больше нет монополии на выработку этого Плана, и более того, обособляется часть правящей элиты, которая морально может позволить себе дистанцироваться от прежнего «Плана» и предложить «иной» проект. Не об этом ли предупреждает Глеб Павловский в своем интервью «МК»?Сегодня уже с высокой долей уверенности можно говорить, что в элите началась конкуренция Планов. И свойством этой конкуренции является ее политизированность: принятие того или иного Плана может иметь негативные последствия для части политической элиты, что рождает и острую политическую борьбу, и страхи, и даже панику.План 1 – «модернизация». Это тот самый «путинский план», котоырй сегодня отстаивает Сурков. Главным недостатком этого Плана является то, что, призывая законсервировать созданный политический режим, он не предлагает актуальных антикризисных шагов. Вчера на форуме «Стратегия-2020» Сурков признал, что выступает «защитником нынешней политической системы». Он отметил, что «гораздо веселее призывать все переменить». «Это наш главный порок - мы ничего не хотим доделывать, все готовы бросить на полпути, не задумываясь о последствиях», - посетовал он. Грубо говоря, план Суркова состоит в том, чтобы кризис (и те, кто вырабатывает антикризисную политику) не поломал созданную систему.План 2 – «либерализация». В своей политической части этот план пока достаточно маргинален. Он скорее выполняет роль «страшилки», которой отмахиваются от любых реформаторских идей. Во властных, околовластных кругах есть сторонники политической плюрализации (взять тот же ИНСОР), которые, тем не менее, пока не имеют внятной политической поддержки. Сегодня, например, никто всерьез не говорит уже о возвращении выборов губернаторов (дискуссия эта как началась, так и закончилась).Зато в экономике либерально-рыночный подход имеет достаточно прочные позиции и предусматривает изменение экономического курса страны: сокращение расходов, отказ от всемерной поддержки бизнеса, ставка на выживание сильнейших, снижение налогов и т.д. Судя по всему, это либеральная экономическая часть окружения Медведева, которая признает, что нынешние инструменты управления неэффективны. Если, например, сторонники «первого» Плана говорят, что страна имеет все возможности справиться с кризисом, то сторонники «второго» плана указывают, что к кризису страна оказалась не готова. Это знаменитое высказывание Аркадия Дворковича имеет и свой политический подтекст: неготовность власти указывает на недостатки «путинской модели».План 3 – «инерция». В общем-то, это даже не План, а попытка предпринимать антикризисные меры в заданных политически ограниченных условиях. Авторы такого Плана даже уже получили свое название «партия стерилизаторов» - именно так «обозвал» их Сурков на Форуме. Это финансовые и денежные власти, корпоративный интерес которых никому не давать денег и всеми силами сдерживать инфляцию. Собственно сегодня, «партия стерилизаторов» становится самой битой. На нее с критикой обрушивается буквально все: помимо Суркова, недавно действия Минфина и ЦБ критиковали глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин и глава корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. Как сказал опять же Сурков, имело ли смысл 8 лет копить резервы, чтобы за один год на них кое-как «перезимовать». Здесь, надо признать, имеет место, и горькое разочарование упущенными возможностями. Наконец, есть и План 4 – это «национализация». Часть «путинского» окружения придерживается мысли, что нынешний кризис дает прекрасные возможности скупить наиболее привлекательные активы российских крупнейших компаний, испытывающих острые долговые проблемы. Этот План не менее маргинальный, чем «либерализация»: от него так или иначе в итоге дистанцируется Путин, также как Медведев осторожно дистанцируется от «либералов».В действительности, нынешний момент рождает весьма простой выбор: начать что-то менять или еще подождать, придерживаясь прежней линии и прежней системы координат? Первый вариант представляет угрозу для части «путинской элиты». Возможно отсюда и слухи о «заговоре». Сурков призывает верить «в наши институты, мы не откажемся от наших ценностей». По его словам, кризис в России еще только делает первые шаги, а уже слышны призывы «пересмотреть наши институты и – я сам это читал! – переосмыслить наши ценности».Второй вариант опасен промедлением: консервирование повышает политические риски для режима, хотя и тут Сурков пытается спорить. «Есть в политологических кругах модное суждение, что в предыдущие восемь лет в России был контракт между обществом и властью. Власть распределяла нефтедоллары, а общество взамен отреклось от части своих прав и свобод. Соблазнительно проста теория, что как только иссяк поток нефтедолларов, народ спохватился и скажет: «А теперь давайте сюда свободу!» - рассказал Сурков.В действительности, конечно, мало кто именно так понимает социальный контракт. Особенностью путинского режима было изменение контракта власти, который при Борисе Ельцине заключался с элитой (и это делало государство более зависимым от олигархов, от региональной элиты и даже пресловутого Запад), а при Путине – напрямую с народом. Любая власть может опираться либо на народ, либо на элиту. Первый вариант позволяет проводить жесткие политические реформы, которые позволяют подавлять самых сильных внутриэлитных противников (оппозицию, Ходорковских, Лужковых и Шаймиевых). Но при этом делает чрезмерной зависимой власть от выполнения своих социальных обязательств (проще – от рейтинга). Второй вариант позволяет существовать и при крайне низком рейтинге (все помнят 5% Ельцина в 1995 году перед президентскими выборами), но заставляет достаточно сильно ориентироваться на интересы влиятельных элитных групп.Путин, заключив контракт с обществом напрямую, в обмен получил не отказ от прав и свобод, а возможность обуздать элиту, построив моноцентризм, где никто кроме Кремля не способен принимать политические решения. Общество же, в свою очередь, получило, прежде всего, стабильность, рост доходов и поднятие национального духа. При этом как показывают соцопросы, демократические ценности не отходили на второй план: народ никогда не был готов отказаться от приобретенных свобод. Отсюда следует, что расторжение контракта – это, прежде всего, нежелание «путинского большинства» поддерживать власть, не способную выполнить свои обязательства в социально-экономической, но не в политической сфере. И никто не требует возвращения того, чего, как считает население, у него не отнимали.Другое дело, что расторжение контракта, которое может стать самым пагубным следствием кризиса, автоматически приведет к появлению альтернативных проектов развития страны, среди которых наиболее актуальным может оказаться проект либерализации. И в этом случае население, которое почувствует плюрализацию в политической сфере и развитие конкуренции, скорее потеряет в своих социально-экономических возможностях. Зато любой либеральный проект в неразвитых государствах всегда будет опираться уже на контракт власти и бизнеса.Кризис впервые обозначил риск переформатирования контракта власти: опора на общество может оказаться неподъемной. В этом случае вся та система, весь тот механизм, который создавался на протяжении 8 лет для обслуживания контракта власти и общества перестанет быть актуальным и рухнет. Не этого ли бояться авторы теории заговора?
не смешное, но очень душевное, к празднику, не мое
Иногда хочется быть такой женщиной-женщиной,
Звенеть браслетами,
поправлять волосы,
а они, чтоб все равно падали,
благоухать Герленом,
теребить кольцо,
пищать <Какая прелесть!>,
мало есть в ресторане,
<мне только салат>.
Не стесняться декольте,
Напротив, расстегивать
Совсем не случайно,
Верхнюю пуговочку.
Привыкнуть к дорогим чулкам,
И бюстхалтеры покупать
Только <Лежаби>.
Иметь двух любовников,
Легко тянуть деньги,
<ты же знаешь - я не хожу пешком>,
<эта шубка бы мне подошла>:
Не любить ни одного из них.
<И потом в гробу
Вспоминать Ланского>.
А иногда хочется быть интеллигентной дамой,
Сшить длинное черное платье,
Купить черную водолазку,
Про которую Татьяна Толстая сказала,
Что их носят те, кто
Внутренне свободен.
Если курить, то непременно с мундштуком,
И чтоб это не выглядело
Нелепо.
Иногда подходить к шкафу,
Снимать с полки словарь,
чтоб только УТОЧНИТЬ слово,
говорить в трубку: <Мне надо закончить статью,
сегодня звонил редактор>,
Рассуждать об умном на фуршетах,
А на груди, и в ушах чтоб
- старинное серебро
С розовыми кораллами
Или бирюзой.
Чтоб в дальнем кабинете
По коридору налево
сидел за компьютером муж-ученый,
Любовь с которым
Продолжалась бы вечно.
Чтоб все говорили
<Высокие отношения>.
Чтоб положив книжку
на прикроватный столик,
перед тем, как выключить свет в спальне,
он замечал:
Дорогая, ты выглядишь бледной,
Сходи завтра к профессору
Мурмуленскому.
Непременно.
А иногда просто необходимо быть
Холодной расчетливой сукой.
И большой начальницей,
Чтоб все в офисе показывали пальцем
И так и говорили новеньким:
Она холодная расчетливая сука,
Пойдет по трупам.
Ну, зачем так грубо?
И зачем же сразу <по трупам>?
А вы, девушка уволены:
"Кажется я ясно ставила задачу",
Называть красивых секретарш
<дурочками>,
Прямо в глаза.
Не потому что дурочки,
а потому, что красивые.
Топ-менеджерскую зарплату
Тратить на элитную косметику,
И чтоб золотых карт миллион,
С сумасшедшими скидками:
Коллекционировать современное искусство,
Развешивать его
По голым стенам в кабинете
И в огромной пустой квартире,
Где на сушилке на кухне
Одна чашка, одна ложка
И две табуретки
у барной стойки.
Говорить мужчине:
Жалкий неудачник,
То есть нет - лууууууузер.
Утвержать, что мастурбация
- дело всенародное,
И спать с котом,
(<он же член семьи!>),
Которого кормит домработница.
А иногда хочется быть такой своей для всех
В доску.
С короткой стрижкой,
И красить волосы, губы и ногти оранжевым,
И ходить в больших зеленых ботинках,
С индийской сумкой-торбой,
С наушниками в ушах,
С веревочками на запястье,
Все время везде опаздывать,
Вопить в курилке:
<Я такую кофейню открыла!>,
<Вы пробовали холотропное дыхание? -
Отвал башки!>
И чтоб аж дым из ушей.
Захлебываться от впечатлений,
Не успевать спать,
Собираться на Гоа
В феврале.
Сидеть в офисе за "маком",
Вокруг чтоб все увешано
разноцветными стикерами
с напоминаниями: <придумать подарок Машке>,
<напомнить Витьке про ужин в среду>,
<купить новые лыжи>.
На рабочем столе чтоб фотографии детей
В бассейне и в океане,
Портреты собаки - лабродор (почившей),
И бородатого мужчины в странной желтой шапочке.
Быть всю жизнь замужем
За одноклассником,
Который за двадцать лет, представьте
Так и не выкинул
Ни одного фортеля.
Ди еще и мирится со всеми этими
Друзьями, вечеринками, транжирством
И немытой посудой.
<Ты заедешь за мной в восемь?>
<Конечно, зая>.
А иногда хочется побриться на лыску,
И повязать платочек,
Вымыться в бане хозяйственным мылом,
Но пахнуть какими-нибудь
Травками,
Полынью там, или мятой.
Научиться молиться,
Читать жития святых,
Соблюдать посты,
Назвать сына Серафимом,
Подставлять, хотя бы мысленно,
другую щеку,
<Ты этого хотел. Так. Аллилуйя.
Я руку, бьющую меня
- целую>.
Излучать доброжелательность,
И чтоб ненатужно так
Сиять от унутренней хармонии.
Принести из церкви святую воду в баллоне,
Поставить ее в холодильник,
И когда муторно на душе
Умываться ею
И советовать мамашам,
Что если у ребенка температура,
Достаточно просто сбрызнуть,
И чтоб это действительно помогало.
А еще ужасно хочется пойти в официантки,
Купить накладные ресницы,
И полное
Собрание сочинений
Дарьи Донцовой.
Научиться ходить на каблуках
Флиртовать с посетителями,
Чтоб они больше
Оставляли на чай,
Говорить: а вот попробуйте еще <карпччо>,
Уж очень оно у нас замечательное.
Ходить в кино,
Копить на машину.
Бросить бармена,
Закрутить с поваром-итальянцем,
Висеть на доске почета,
Как работник, раскрутивший максимальное число лохов
На дорогое французское вино,
Которое, они сроду не отличат,
От крымского.
Пить сколько хочешь горячего шоколада
Из кофе-машины,
И уже разлюбить греческий салат.
А что мы имеем на деле?
Пока только
Черную водолазку.